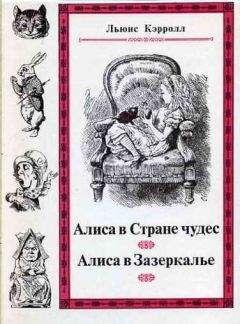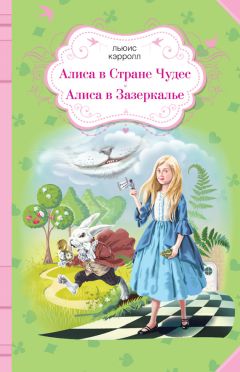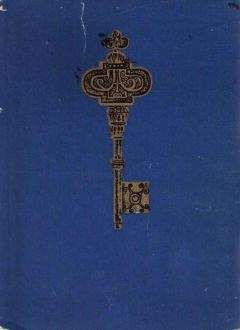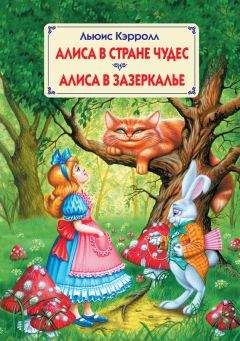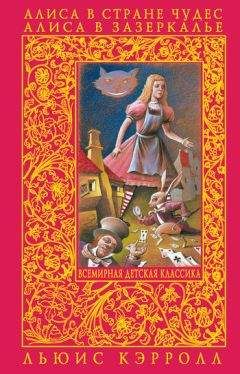Тамара Курдюмова - Литература. 7 класс. Методическое пособие
В этом же классе мы знакомим учеников с Тургеневым как мастером малых форм. Новый для русской литературы жанр – стихотворение в прозе – родился в результате внимания друзей и знакомых к лаборатории писателя Тургенева. В учебнике описан один из эпизодов, демонстрирующих мастерство Тургенева, легкость его пера. Он же демонстрирует и то, как велик был интерес писателя к искусству.
Расскажем более подробно о том примере, который приведен в учебнике, – создании очерка о Пергамских раскопках. Раскопки алтаря Зевса производились в 1878–1879 годах на территории древнего города Пергама в Мизии. Найденные фрагменты были доставлены в Берлин и помещены сначала в Берлинском музее, а затем в специальном помещении.
В «Вестнике Европы» № 5 за 1884 год читаем: «Весною 1880 г., приехав в Пушкинский праздник прямо из Берлина, Тургенев за завтраком у редактора журнала заинтересовал всех своим рассказом о пергамских раскопках, которые в том году только что начали приводиться в порядок в берлинском музее. Кто-то из присутствующих заметил ему, что он непременно должен написать статью об этом; Тургенев тотчас же пообещал, но редактор выразил сомнение, чтобы это когда-нибудь было исполнено им, если его не запереть в комнату. Тургенев торжественно встал, напомнил, как в старину в Сенате снимали сапоги с неблагонадежных писарей, чтоб они не убежали со службы, извинился, что подагра не позволяет ему прибегнуть к такому способу удостоверения в его благонадежности, и тут же снял с себя галстук, в виде залога, заметив, что порядочному человеку без галстука нельзя уйти так же, как и без сапог, – и ушел в кабинет. Мы продолжали беседу, а через час времени он уже вынес написанный им этюд: «Пергамские раскопки» – один из прелестнейших его этюдов в области искусства».
Предложим учителю фрагменты этого небольшого очерка.
Пергамские раскопки. Письмо в редакцию…Эти горельефы составляли собственно фронтон или фриз громадного алтаря, посвященного Зевесу и Палладе (фигуры в полтора раза превосходят человеческий рост) – стоявшего перед дворцом или храмом Аттала. Они найдены на довольно незначительной глубине и хотя разбиты на части (всех отдельных кусков собрано более 9000 – правда, иные куски аршина полтора в квадрате и более), но главные фигуры и даже группы сохранены, и мрамор не подвергся тем разрушительным влияниям открытого воздуха и прочим насилиям, от которого так пострадали останки Парфенона. Все эти обломки были тщательно перенумерованы, уложены на двух кораблях и привезены из Малой Азии в Триест… потом отправлены по железной дороге в Берлин. Теперь они занимают несколько зал в Музеуме, на полу которых они разложены, и понемногу складываются в прежнем своем порядке, под наблюдением комиссии профессоров и с помощью целой артели искусных итальянских формовщиков. К счастью, главные группы сравнительно меньше пострадали – и публика, которой позволяется раз в неделю осматривать их с высоты небольших подмостков, окружающих лежащие мраморы, может уже теперь составить себе понятие о том, какое поразительное зрелище представят эти горельефы, когда, сплоченные и воздвигнутые вертикально в особенно для них устроенном здании, они предстанут перед удивленными взорами нынешних поколений во всей своей двухтысячелетней, скажем более – в своей бессмертной красоте.
Эти горельефы (многие из тел так выпуклы, что совсем выделяются из задней стены, которая едва с одной стороны прикасается их членов) – эти горельефы изображают битву богов с титанами или гигантами, сыновьями Гэи (Земли). Не можем здесь же, кстати, не заметить, что какое счастье для народа обладать такими поэтическими, исполненными глубокого смысла религиозными легендами, какими обладали греки, эти аристократы человеческой породы. Победа несомненная, окончательная – на стороне богов, на стороне света, красоты и разума; но темные, дикие земные силы еще сопротивляются – и бой не кончен.
Посередине всего фронтона Зевс (Юпитер) поражает громоносным оружием, в виде опрокинутого скиптра, гиганта, который падает стремглав, спиною к зрителю, в бездну; с другой стороны – вздымается еще гигант, с яростью на лице – очевидно, главный борец, – и, напрягая свои последние силы, являет такие контуры мускулов и торса, от которых Микель-Анджело пришел бы в восторг. Над Зевсом богиня Победы парит, расширяя свои орлиные крылья, и высоко вздымает пальму триумфа; бог солнца, Аполлон, в длинном легком хитоне, сквозь который ясно выступают его божественные юношеские члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя конями, такими же бессмертными, как он сам; Эос (Аврора) предшествует ему, сидя боком на другом коне, в перехваченной на груди струистой одежде, и, обернувшись к своему богу, зовет его вперед взмахом обнаженной руки; конь под ней так же – и как бы сознательно – оборачивает назад голову; под колесами Аполлона умирает раздавленный гигант – и словами нельзя передать того трогательного и умиленного выражения, которым набегающая смерть просветляет его тяжелые черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, тоже умирающая рука есть чудо искусства, любоваться которым стоило бы того, чтобы нарочно съездить в Берлин. Далее, Паллада (Минерва), одной рукой схватив крылатого гиганта за волосы и волоча его по земле, бросает длинное копье другою, круто поднятой и запрокинутой назад рукою, между тем как ее змея, змея Паллады, обвившись вокруг побежденного гиганта, впивается в него зубами. Кстати заметить, что почти у всех гигантов ноги заканчиваются змеиными телами, – не хвостами, а телами, головы которых также принимают участие в битве; Зевсовы орлы их терзают – уцелела одна змеиная широкая, раскрытая пасть, захваченная орлиной лапой…
Все эти – то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростертые крылья, эти орлы, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки, – все эти разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество злобы, и отчаяние, и веселость божественная, и божественная жестокость – все это небо и вся эта земля – да это мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам…
Однако довольно. Позволю себе прибавить одно слово: выходя из Музеума, я подумал: «Как я счастлив, что я не умер, не дожив до последних впечатлений, что я видел все это!» Смею полагать, что и другие подумают то же самое, проведя час-другой в созерцании пергамских мраморов «Битвы богов с гигантами».
С.-Петербург, 18 марта 1880 г. Ив. ТургеневЗнакомя учащихся с мастерством Тургенева, можно использовать и еще один жанр – очерк. Это, наверное, интересно и учителю.
Тургенев свободно владел словом. Однако это не мешало ему с чрезвычайным вниманием относиться к каждой собственной словесной удаче, где бы она ни появилась. Даже чем-то понравившиеся ему строки из собственных писем к приятелям Тургенев сохранял в специальном портфеле эскизов. Шли годы, наброски копились в этом таинственном хранилище, и только тогда, когда жизнь писателя приближалась к концу, редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич проявил инициативу и способствовал обработке и публикации накопленных материалов. Вот как он рассказал о встрече, при которой пошел разговор о том, над чем работает писатель: «…хотите я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать!» Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это такое может быть? – он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал все в портфель. «Это мои материалы, – заключил он: – они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу; так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не напишу, я запечатаю все это и отдам вам на хранение до моей смерти». Я признался ему, что все-таки не хорошо понимаю, что это такое за «материалы», и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала «Деревню», а потом «Машу». Мастерское его чтение подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять; он прочел еще две-три пьесы. – Нет, И. С., – сказал я ему: – я не согласен на ваше предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этой прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорей умерли; на это я не согласен; а мы просто напечатаем все это теперь же» (М. М. Стасюлевич. «Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева»).